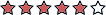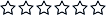Сообщение Rex » Вс дек 28, 2003 7:50 am
Слово Путина
Что показал психолингвистический анализ устных выступлений президента России.
Он не видит никаких различий между партиями, движениями и другими представительными учреждениями, с одной стороны, и государственным аппаратом - с другой
Он склонен замечать в людях и человеческих отношениях лучшее
Он склонен создавать систему личных уний, основанных на дружеских отношениях
Имиджмейкерскую тактику можно определить как сотворение мифа о герое, утверждающего и обязательный набор его атрибутов: крупный исторический масштаб личности, глубокое знание жизни народа, служение Отечеству как наивысшая цель, исполнение профессионального долга на грани постоянного риска
За человека едва ли не более поступков говорят его слова. В отборе конкретных слов, их согласовании, построении связных высказываний человек поневоле выдает свои глубинные мысли и настроения, даже если прилагает все усилия для того, чтобы их завуалировать. Причем к политикам это относится в гораздо большей степени, чем к обычным гражданам. Понятно, что объектом психолингвистического анализа, выявляющего глубинные мысли и настроения, могут быть только устные и не подготовленные заранее тексты.
Мы обработали все большие телеинтервью Владимира Путина, передававшиеся в прямом эфире с момента назначения его премьер-министром, и получили результаты, которые, наверное, могли бы помочь ответить на знаменитый вопрос Who is mister Putin?, поставивший в тупик всю российскую делегацию в Давосе.
Человек из народа
Речевое поведение Путина соответствует эталонным образцам политического ток-шоу. Его ответы интервьюерам почти всегда логически отстроены, исчерпывающе немногословны и достаточно информативны. Вместе с тем, необходимо отметить высокую роль спичрайтерского участия, направленного на "синхронизацию" речевых фигур премьера со вкусами и ожиданиями широкой публики. В первую очередь вспомним крылатое "мочить в сортире". Для нас очевидна навязанность этих слов Путину, их неадекватность его манере публичной риторики. Гораздо более органично с ней сочетается прямо противоположная установка на крайне щепетильную, на грани ханжеской, отсортировку "непристойных" выражений, достаточно типичную для этикетных представлений советского интеллигента в первом поколении.
Приведем полную цитату из словесного этюда к портрету некоторых западных доктринеров, как раз основанную на замене неэстетичных выражений известной пословицы: "Им не только говорить, им все, что угодно, в глаза можно делать, а у них все будет божья роса, прости Господи". Или - извинение за низкий литературный стиль в сообщении о поездке в Чечню: "А то, что жена за мной увязалась, прошу прощения, я ничего не мог с этим поделать".
Коммуникативные тактики всегда строятся на определенных символических системах, принадлежащих "коллективному сознанию" и порожденных социальным опытом определенных поколений и общественных групп. Их использование сообщает важные сведения о персональных предпочтениях и намерениях человека. В текстах Путина наиболее ярко представлен понятийно-фразеологический комплекс, идентифицируемый с советским периодом. Самый выразительный пример - фраза "Родина-мать зовет!". Примечательно, что плакатный лозунг времен Великой отечественной фигурирует во вполне соответствующем его патетике фрагменте текста - обосновании идейной, а не карьерной подоплеки служебной деятельности нашего героя. Или выражение, как бы взятое напрокат из сталинского лексикона: "Наши цели ясны, задачи определены".
Другой идеологический концентрат представлен термином "народ", который служит опорной конструкцией ряда заявлений, обладающих повышенной смысловой нагрузкой: "На народ надо опираться прежде всего"; "Опираться нужно только на народ"; "В конечном итоге решение всегда останется за народом". Как можно заметить из приведенного набора цитат, субъект "народ" для Путина является нерасчлененной общностью, тождественной населению в целом.
Несколько более компактная общность просматривается в тех риторических фигурах, которые заведомо рассчитаны на эмоциональный отклик слушателя: "Все мы, кто находится сегодня у власти, получим на это моральное право только в том случае, если хоть что-нибудь сделаем для улучшения жизни народа"; "Те, кто сегодня занимается посевной, или те, у кого не хватает топлива для того, чтобы собрать урожай, меня прекрасно поймут"; "Я благодарен рядовым гражданам прежде всего за ту поддержку, которую я ощущаю"; "Если правительство действует успешно на основных направлениях своей деятельности, то тогда правительство не может не встречать поддержку населения, поддержку народа, простого человека".
Итак, в декларациях пафосного звучания тема народа поворачивается новой гранью - гранью "простого человека". Или, если оперировать образцом из литературы социалистического реализма, - гранью человека труда, носителя высшей правды и морали. Замечательно, что и самохарактеристика нашего героя, как бы заполняющая собой графу "соцпроисхождение", строится на том же приеме. На идентификации со столь хорошо знакомым согражданам пропагандистским образом "самого передового класса": "Я помню, как у меня папа на пенсию уходил. Он самый был простой человек, работал мастером на заводе всю жизнь". Для нас важна и интересна изначальная направленность данных отсылок на восстановление связей с идейным наследием, прерванных в ельцинское правление.
Тема человека из народа получает продолжение и в другой автобиографической зарисовке, нацеленной на всяческое отмежевание от бытовых привычек чиновной аристократии нового поколения и на переброску тем самым психологического мостика к трудовому населению: "К таким условиям работы, как в Кремле, я, конечно, не привык. У нас в Питере такое только в Эрмитаже можно увидеть. Здесь своеобразная обстановка, такая дворцовая, я никогда к этому не стремился". Точное определение "роскошь" подменяется местоимением "такая". То есть до поры до времени вещь не называется своим точным именем, и в этом заключается ее отчуждение.
"Дворцовая тема" вновь всплывает уже в контексте чеченской проблемы. Здесь она служит изобличению вопиющих социальных контрастов, сложившихся за годы бандитского режима: "Уровень нищеты переходит всякие границы. А в то же время мы рядом наблюдаем дворцы, возникшие неизвестно на какие деньги". Приведенные примеры показывают укорененную в сознании нашего героя неприязнь к антуражу жизни новоиспеченных богатеев и готовность использовать эту тему в пропагандистских целях.
Человек из органов
Подобные смысловые структуры глубоко эшелонированы в контекстах его выступлений, и в них просматриваются контуры режима, которому предстоит состояться. Пока можно указать лишь на отдельные фрагментарные "заявки" будущей идеологической доктрины. Это - короткие номинализованные синтаксические структуры, то есть фразы, сжатые до размеров устойчивых словосочетаний: "люди, думающие об интересах страны"; "люди, которые руководствуются не сиюминутной конъюнктурой и групповой выгодой, а интересами государства"; "отсутствие политической стабильности"; "решение судьбоносных вопросов страны в экспортном исполнении"; "политические тусовки столицы либо столичных городов".
Все эти словосочетания, за исключением последнего, референциально непрозрачны - то есть в принципе не соотносимы ни с одним из конкретных и известных из реальной действительности фактов. В этом плане их легко можно поставить в один ряд с абстрактными понятиями вроде "истины", "справедливости", "веры", не выражающими в отрыве от контекста никаких идей. Именно в этом смысле Бертольд Брехт рассуждал о "пустой мистике слов". Однако заметим, что каждое из приведенных словосочетаний тем не менее обладает мощным потенциалом смыслового развертывания в ближней или дальней перспективе. Это прежде всего сочетание "отсутствие политической стабильности" - тезис, выдвинутый Путиным на этапе утверждения в должности премьера. Именно этот тезис по законам логики квалифицируется как "пустой терм", то есть слово с заблокированным значением. В отличие от более точной формулы "нестабильность", открытой для указаний на причины и виновных, термин "отсутствие политической стабильности" освобождает автора от развития щекотливой темы. Между тем, будучи все же озвученными в многомиллионной аудитории, все перечисленные конструкции обладают высокими шансами на дальнейшее раскрытие с поименованием субъектов указанных действий и состояний.
Речевое поведение Путина обладает выраженной ведомственной узнаваемостью. С учетом высокого контроля Путина над собственным речевым потоком (в той мере, в какой вообще этот контроль возможен) широкий набор и легко выделяемый состав профессионального жаргона, естественно, не случаен. Можно говорить о целенаправленной стратегии имиджмейкеров, опирающейся на механизм контаминации - наложения непосредственных текущих впечатлений от речевого поведения нашего героя с известными, укорененными в массовом сознании образами. В данном случае - чекистов, воплощающих классические доблести бойцов невидимого фронта: горячее сердце, холодную голову и чистые руки.
Такая идентификация достигается разными способами. Это -заимствованные из времен холодной войны характеристики идеологических диверсий и чуждых влияний (и противостоящей им чекистской бдительности): "вбрасывание темы", "вбрасывание тезиса", "нежелательные элементы", "покушение с негодными средствами", "попросил бы вас на этот счет не очень беспокоиться", "мы на эту провокацию поддаться не должны", "рекомендую никому не суетиться", "кому-то неймется". Это - мрачная шутка: "Выйдут - сядут" (о людях, которые захотят в знак протеста сесть на рельсы). Это - некоторые афористические высказывания, утверждающие ведомственный стиль и опыт работы: "Нам не нужны военные, которые сопли жуют"; "Мы не можем оголить спину армии". Это - так называемые эллиптические обороты речи, в которых опущено определяемое слово, поскольку оно безошибочно отгадывается слушателем. Как, скажем, в контексте рассуждений о невозможности соглашения с террористами: "Или мы должны, как кот Леопольд, прийти к бандитам и сказать: 'Ребята, давайте жить дружно'. А ребята нам - тук - контрольный в голову".
Государственник
А вот другой ряд выражений: "Шойгу - министр правительства российского", о кремлевском дворце: "Это принадлежит стране, государству нашему". Случайная для непроизвольного высказывания перестановка определяемого слова и определения неслучайна для глубинных представлений Путина. Нынешняя власть таким образом осмысливается как воплощение "государства российского" - образа, выпестованного общественной мыслью со времен Н. М. Карамзина. Созвучие державнической традиции выражается в ряде деклараций Путина: "Целью нашей политики является укрепление российской государственности"; "Россия очень важна для мирового сообщества. Но она сохранит такое качество только до тех пор, пока останется сильной"; "Мы будем привлекательны для Запада только в том случае, если будем полноценным, сильным государством"; "Мы не решим никаких проблем в условиях распада государства".
Приведенные классы высказываний в социологии принято называть индексными. Индексные выражения предполагают социальную близость и доверие. Они строятся на активизации в памяти слушателя контекста, который задается говорящим, и служат инструментом утверждения в общественном сознании той реальности, которую строит сам говорящий.
К этому ряду примыкает и другой коммуникативный прием - приведение живых примеров, исчерпывающих содержание проблемы. Образец такого приема - рассказ об одной маленькой хлебопекарне, которую проверяли за год больше раз, чем насчитывается дней в году. Такие же примеры приводил Путин и в отношении нерационального использования сжиженного газа, хищнического потребления российской электроэнергии одной из стран СНГ, неоправданно низких экспортных пошлин на энергоносители и так далее. Везде обнаруживается одна и та же закономерность: данные практические объяснения (примеры) подменяют собой раскрытие фундаментальных проблем экономической политики правительства и государственного строительства.
Чаще, чем другие политики, Владимир Путин задает риторические вопросы. Это очень важный показатель, поскольку риторические вопросы являются известным способом утверждения власти над аудиторией. Характерно, что предметно риторические вопросы и практические объяснения во многом перекрывают друг друга, однако круг первых все же шире. "Разве можно вести политические разговоры с террористами?"; "А тогда возникает вопрос: зачем он нам вообще нужен в качестве переговорщика?"; "Если ценой этих отношений (с международным сообществом. - "Эксперт") является распад нашего государства, то зачем такие отношения?"; "Как можно обеспечить армию на Северном Кавказе, если у нас нет доходов в бюджет?"; "Неужели это (введение повышенных пошлин на экспорт газа. - "Эксперт") нельзя сделать своевременно? Конечно, можно. Почему не сделали? Я думаю, что просто дали заработать экспортерам"; "Такой принцип формирования коалиционного правительства возможен, когда есть устойчивые политические партии. С кем в этом смысле можно работать, кроме коммунистической партии? Но тогда какое же это коалиционное правительство?".
Подводя итог нашим наблюдениям за коммуникативными тактиками и. о. президента, выделим их наиболее важные грани. Во-первых, нацеленность на создание широкого фронта социальной поддержки с использованием ностальгических воспоминаний и легко узнаваемых образов прошлого (дореволюционного и, главным образом, советского). Во-вторых, декларирование идейных ценностей, обещающих придать человеческое измерение либерально-рыночной системе. В-третьих, последовательная подготовка общественного мнения к жестким решениям, которые могут быть продиктованы экономической либо политической целесообразностью.
Имиджмейкерскую тактику можно определить как сотворение мифа о герое, утверждающего и обязательный набор его атрибутов: крупный исторический масштаб личности, глубокое знание жизни народа, служение Отечеству как наивысшая цель, исполнение профессионального долга на грани постоянного риска.
Чиновник
От коммуникативных тактик перейдем к содержанию устных выступлений Путина. Он очень скупо и осторожно высказывается о внешней и экономической политике правительства. Тут заметны авторская цензура и нежелание до президентских выборов раскрывать свои взгляды и стратегии. Более подробно Путин говорит на темы внутренней политики - правительство, отдельные министры, чиновники, Госдума и депутатсткий корпус, лидеры фракций и движений, участие в избирательных кампаниях и т. д. Множественность таких высказываний, как и разнообразие затронутых в них аспектов, позволяют выявить внутренние (недекларируемые) представления Путина об оптимальной организации власти. Прежде всего отметим соотношение акциональных (обозначающих активное действие) и неакциональных (констатирующих) словесных структур, используемых в описании ветвей власти. Для исполнительной власти - 36% акциональных и 64% неакциональных, для законодательной - 20% акциональных и 80% неакциональных. Таким образом, в системе представлений Путина исполнительные структуры играют более важную роль, нежели законодательные.
С учетом послужного списка нашего героя, целиком составленного в недрах исполнительной власти, данный факт не вызывает удивления. Удивительно другое - совершенно искреннее представление о нерасчлененной, однородной власти: "С кем бы ни сливались, ни разливались, результата не будет, либо он будет отрицательный, если нет результатов в практической деятельности. Для правительства это экономические результаты прежде всего. Будут результаты - тогда можно рассчитывать на широкую поддержку населения. Не будет этих результатов, тогда хоть с кем угодно сливайся, разливайся, дружи и так далее. Поддержки населения будет не добиться". Парадокс этого утверждения состоит в том, что оно посвящено объединению ряда партий и движений в предвыборные блоки. Его презумпцию (которую в лингвистике принято называть пресуппозицией) составляет убеждение в равнозначности задач и правил игры для всех институциональных субъектов, действующих на поле политики. Тем самым говорящий обнаруживает серьезный дефект восприятия предмета - он не видит никаких различий между партиями, движениями и другими представительными учреждениями, с одной стороны, и государственным аппаратом - с другой.
Более того, можно утверждать, что структуры представительной власти осмысливаются юристом В. Путиным по образу и подобию административных. Приведем небольшой отрывок, в котором в неосознанном виде, наподобие фрейдистской оговорки, заявляется именно такой подход: "Я исхожу из того, что Государственная дума будет руководствоваться не меркантильными соображениями, а государственными. И примут такое решение, которое посчитают целесообразным именно из-за интересов России, а не из лично-ведомственных интересов по поводу своего участия в выборах..." "Лично-ведомственные интересы" - словесный гибрид, произрастающий из осмысления любой инстанции в терминах бюрократического единоначалия.
Именно в рамках этого подхода начальник и возглавляемое им ведомство образуют вполне взаимозаменяемые единицы, способные соединяться сильной конъюнктивной связью (через дефис).
Движущая рука
Мысленная тенденция к устранению сложности политического процесса на основе бюрократической унификации проявляется и во многих других случаях. Вот, например, зарисовка, посвященная Евгению Примакову: "Он очень долгое время на политической сцене пребывал. Он был и в ЦК КПСС, и с Горбачевым Михаилом Сергеевичем работал. Он возглавлял внешнюю разведку. Он работал в Министерстве иностранных дел". Или о своем преемнике в ФСБ: "Он опытный работник. Кадровый офицер органов безопасности. Был на самостоятельной работе. Он был министром безопасности в Карелии. Уже долгое время, много лет работает в центральном аппарате ФСБ в Москве, возглавлял одно из структурных системообразующих управлений. Потом был заместителем директора, возглавлял департамент экономической безопасности". Характеристика деятельности при помощи серии бытийных и диспозициональных глаголов несовершенного вида ("пребывал", "был", "работал", "возглавлял", иногда даже опускаемых в силу нулевой смысловой значимости, стирает грань между понятиями государственного, общественного деятеля и функционера.
Подобные оценочные суждения, мало чем отличающиеся от выписки из трудовой книжки, выдают тот самый карьерный менталитет, от которого Владимир Путин яростно открещивается в открытых заявлениях о себе: "Я никогда не ставил себе таких целей. Я просто оказывался на каком-то месте конкретном, и вот на этом конкретном месте в данное конкретное время возникали проблемы, которые нужно было решать. И я не думал о том, как это отразится на карьере". На уровне нерефлексируемой или слаборефлексируемой организации высказываний проявляется совсем другое: уважение не столько к реальной эффективности работника, сколько к его успешному продвижению по служебной лестнице.
В выстроенной системе координат политическое регулирование практически сливается с администрированием, а методы кооперативного (сотруднического) политического участия (согласование интересов, сближение позиций, политический торг и обмен уступками) легко заменяются давлением и директивными указаниями превосходящей стороны. В этом отношении весьма показателен "законспирированный" в путинских текстах курс на дезавуирование публичных политиков. Именно в этой области сосредоточены практически все немногочисленные выражения низкого литературного стиля, вообще встречающиеся в выступлениях Путина. Приведем эти фрагменты: "Здесь есть люди, их называют профессиональными политиками, которые десятилетиями сидят, у них в крови карьера, рост какой-то"; "Госдума должна отражать и быть результатом не каких-то подковерных договоренностей... не вот этот подковерный процесс"; "Мне никак не удается получить ясного ответа от лидеров этих движений, партий, как они будут выстраивать свою политику в отношении
Поймаем в сортире, замочим и в сортире (В.В. Путин)
 увеличил в этом году квоту на приезд эмигрантов на 3000 чел и щя эта цифра у нас равна 10000 чел..для сравнеия в Москве эта цифра равна 1,5 тыс чел..
увеличил в этом году квоту на приезд эмигрантов на 3000 чел и щя эта цифра у нас равна 10000 чел..для сравнеия в Москве эта цифра равна 1,5 тыс чел..